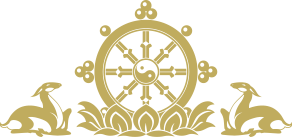От остальных
Прежде всего, эти люди были необычайно выносливы и живучи. Бывшие охотники и звероловы, которые подобно куперовскому Следопыту, могли неделями не покидать дремучего леса, на равных сражаясь с его могучими обитателями, они и здесь, в схватке с «фашистским зверем», проявили себя наилучшим образом. Ранняя и жестокая зима 1941 года и беспросветные вьюги последующих лет
 Советский снайпер сержант Цырендаши Доржиев (бурят по национальности) из 202-й стрелковой дивизии на огневой позиции.
Советский снайпер сержант Цырендаши Доржиев (бурят по национальности) из 202-й стрелковой дивизии на огневой позиции.
Ленинградский фронт.
Впрочем, к выносливости и живучести бурятских воинов можно добавить ещё одно важное качество — меткость их стрельбы. Из бывалых сибирских охотников на войне вышли отличные снайперы. Первым в этом ряду обычно называют Семёна Номоконова. В переводе с бурятского «номкон» означает «смирный», «смиренный», и действительно: внешне этот уже немолодой солдат вроде бы оправдывал свою фамилию — небольшого роста, худенький, мешковатый и медлительный. Зато ещё в тайге за свое охотничье мастерство Семён Данилович получил прозвище «Глаз коршуна». На Ленинградском фронте за ним закрепилась ещё одна кличка — «Таёжный шаман». Всего за Великую Отечественную войну Номоконов уничтожил 368 фашистов, среди которых, как утверждают, был один
Кроме Номоконова, среди бурятских снайперов, застреливших наибольшее количество фашистов, можно назвать Тогога Санжиева (убил 186 врагов), Арсения Етобаева (на его счету — 356 вражеских жизней), Жамбала Тулаева (313), Никифора Афанасьева (299), Цырендаши Доржиева (297), Цыбика Цыдыпова (более 250), Буду Галсанова (более 200), Игната Хичибеева (тоже свыше 200), Доржи Ухинова (193 или 197), Гарму Балтырова (170), Константина Доржиева 127), Чимита Цыдыпова (тоже 127),
Всего из полумиллионной
 Скульптурная группа «Солдаты» в монументе «Героическим защитникам Ленинграда», г.
Скульптурная группа «Солдаты» в монументе «Героическим защитникам Ленинграда», г.
И напоследок следует упомянуть об ещё одной важной черте бурятских красноармейцев, защищавших Ленинград. Как и у прочих воинов, не позволивших врагу войти в город, у них за спиною были Эрмитаж, Летний сад, Невский проспект, кони Клодта и купол Исаакиевского собора. И всё ж не только это. У буддистов, которым выпало сражаться на Ленинградском и Волховском фронтах, за спиною был ещё один уникальный памятник архитектуры — Дацан в Старой Деревне, построенный незадолго до революции. Разумеется, после 1938 года храм был закрыт и бездействовал, но вместо пения хуралов и звучания мантр в его стенах раздавался мерный рокот работавшей там секретной военной радиостанции под условным названием «объект № 46». Таинственный объект служил средством для наведения советских самолётов и заодно помогал поддерживать связь с «Большой землёй». Пройдет ещё не менее полувека, прежде чем секретная радиостанция снова станет буддийским храмом — тем, каким мы его знаем сейчас: Дацаном Гунзэчойнэй.
Автор: Валерий Береснев
Данный текст является частью масштабного исторического исследования, посвящённого участию буддийских народов в Великой Отечественной войне, и шире — в военной истории России. Ознакомиться с первой статьей на эту тему можно здесь.
Фото: из открытых источников в Интернете.