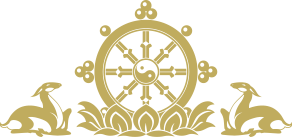Традиционные верования бурятского народа в восприятии первых дворянских революционеров
Буддийский Дацан «Гунзэчойнэй» в
Как неудачное «либеральное» восстание заложило фундамент под петербургский Дацан
Под представителями столичной элиты, аристократической и интеллектуальной, я подразумеваю, главным образом, декабристов, которые не своей волей очутились в Сибири, но оказались самыми добросовестными исследователями и летописцами этого малоизведанного края. Пожалуй, никто до них в такой степени не «погружался в сибирский материал», то есть не жил так подолгу среди коренного населения, не пользовался его гостеприимством, не изучал его обычаи и привычки, не наблюдал его верования, как это выпало на долю вроде бы «изнеженных» и вроде бы «поверхностных» дворянских революционеров. Таким образом, примерно за сто лет до фактического основания буддийского храма в
 Художник К.И. Кольман «На Сенатской площади 14 декабря 1825 года», бумага, акварель, 1830-е годы.
Художник К.И. Кольман «На Сенатской площади 14 декабря 1825 года», бумага, акварель, 1830-е годы.
Пребывание декабристов в Сибири, тема каторги и ссылки первых дворянских революционеров были досконально изучены ещё советской историографией. С благоговением отмечались просветительская деятельность, которой занимались среди бурятского населения многие ссыльные, этнографические описания края, оставленные ими в письмах и статьях, первые научные коллекции, собранные наиболее дотошными декабристскими исследователями. Но тема соприкосновения декабристов и буддизма (или шире: декабризма и буддизма как двух диаметрально противоположных духовных течений) затрагивалась советскими учёными лишь вскользь — по вполне понятным для атеистического государства идеологическим причинам. Впрочем, в постсоветское время тоже ничего не изменилось, так как интерес к изучению декабристов и декабризма значительно снизился, и никому в бурное время экономических реформ не пришло бы в голову выводить генезис петербургского Дацана из неудачного «либерального» восстания в
Первые декабристы стали прибывать в Сибирь (Нерчинский завод, Благодатский рудник) прямиком из Петербурга в
Юрты предназначались для отдыха и ночлега как самих государственных преступников, так и сопровождавшего их тюремного конвоя. По замечанию всё того же Басаргина, описавшего путешествие в Петровский завод в своих «Записках», деревень в бурятской степи тогда было очень мало, поэтому ночевали прямо «в поле, где заранее приготовлялись юрты. Место выбирали около речки или источника на лугу и всегда почти с живописными окрестностями и местоположением[3]».
 Литография живописца Андрея Ефимовича Мартынова. Обед в юрте. 1806 год
Литография живописца Андрея Ефимовича Мартынова. Обед в юрте. 1806 год
Всех декабристов поделили на группы по пять человек. Для каждой пятерки предназначалась своя юрта, в связи с чем такие группы для удобства тоже стали именовать «юртами». Таким образом, блестящие петербургские аристократы впервые для себя стали не просто гостями, а своего рода законными обитателями традиционного бурятского жилища.
«…В разных местах зажигались костры дров, около которых сидели в разнообразных положениях проводники наши — буряты, между которыми были и женщины, с своими азиатскими лицами и странными костюмами», — вспоминал Николай Басаргин. «Почти всегда в это время большая часть из нас ходили кучками внутри цепи, около костров, толковали с бурятами и между собою»[4].
Позднее декабрист Николай Бестужев в своём очерке «Гусиное озеро» подробно воссоздал мир бурятской юрты, где рядом с бытовой и хозяйственной утварью почти всегда помещался буддийский алтарь для домашних молитв и жертвоприношений. «Перед самым входом стоит род сундучка с уступами, на которых расположены вверху бурханы бронзовые или намалёванные, смотря по достатку, а внизу в медных чашечках жертвоприношения, состоящие в воде, молоке, хлебных зёрнах. Тут же, если способы позволяют, курится свечка потоньше гусиного пера, сделанная из опилок алоевого дерева, связанных
 Николай Александрович Бестужев
Николай Александрович Бестужев
(1791−1855)
Скорее всего, походный быт тех юрт, в которых довелось ночевать декабристам при переходе в Петровский завод, был гораздо скуднее описанного Бестужевым. И
Гостеприимство и радушие, как пишет тот же Бестужев, предписывается бурятам их верой. «Буряты действительно гостеприимны: самый бедный из них, при посещении его даже незнакомым человеком, засыплет для него в чашу последнюю варку чая и будет сидеть после того сам голодом несколько дней. …И в самом деле, каким образом странник, едущий по улусам, мог бы найти, чем утолить голод, без этого гостеприимства, почти повелеваемого религией[6]».
«Часто стали попадаться нам верховые с луком, колчаном,
со стрелами у бедра»
Ради справедливости стоит заметить, что первые впечатления изгнанников от соприкосновения с бурятским народом были не только комплиментарными. Большинство декабристов и в Сибири, потеряв все свои чины, звания и титулы, продолжали, тем не менее, ощущать себя элитой, несправедливо ущемлённой в правах и безмерно страдающей «за правду» в «каторжных норах». В качестве элиты они считали себя вправе свысока смотреть на коренное население края. Буряты с их экзотическими для европейского человека обычаями и верованиями воспринимались ими примерно так же, как
«Наконец, после разных метаморфоз, то на санях, то на колесах, поднимаясь, спускаясь, мы очутились в прекраснейшей, обширной равнине, земле бурят», вспоминал в своих «Записках» декабрист Николай Лорер о своём первом свидании с Сибирью. «Часто стали попадаться нам верховые с луком, колчаном, со стрелами у бедра; женщины в кожаных шароварах, верхом на быках, многочисленные стада и юрты этого кочевого народа…»[7].
«Бурят вообще я встречала очень много по дороге: они или перекочевывали с многочисленными табунами, состоящими из коров, лошадей и преимущественно баранов, которыми они и питаются, или, раскинув свои юрты, отдыхали», писала в своих «Воспоминаниях» Полина Анненкова (Гёбль). «…Я с любопытством смотрела на этих дикарей самого кроткого, миролюбивого нрава»[8].
Но в отличие от американских конкистадоров декабристы не были ни завоевателями, ни даже колонистами. Они были невольниками, и сами были гонимы, и в качестве таковых должны были искать защиты и покровительства у народа, который на первых порах представлялся им диким. Собственная беда и социальная уязвимость сделали их более внимательными и восприимчивыми к чужой культуре. И вскоре за внешней дикостью и так называемой «азиатчиной» для многих сосланных по «делу 14 декабря» стали проступать черты древней, некогда очень могущественной цивилизации, частично восходящей к Тибету, а другой своей генеалогической пуповиной непосредственно связанной с осколками Золотой Орды.
Декабристы были воспитаны в христианской культуре, но эту культуру вряд ли можно счесть православной, а воспитание — основательным и глубоким. Известно, что верхи русского дворянского общества в эту эпоху были православными христианами лишь по факту своего рождения и крещения. Дальнейшее становление личности происходило в атмосфере масонских лож и всё ещё могущественного вольтерианства, романтизма или сентиментализма, где христианские черты терялись среди напластований восточной мистики, рационализма, наивной веры в прогресс, а то и вовсе попирались ими. Такое воспитание, с одной стороны, делало декабристов людьми, лишёнными национальных духовных корней, космополитами, а с другой — сообщало им беспечную открытость и терпимость к любым взглядам и религиозным системам. Эта открытость подпитывалась и исследовательской любознательностью, свойственной многим сосланным дворянским революционерам. Впрочем, любознательность иногда сводилась к простому житейскому любопытству.
О том, насколько новой и непонятной представлялась большинству декабристов буддийская культура Сибири, свидетельствует невольное искажение основных терминов ламаизма в сохранившемся декабристском наследии. От этого несвободен даже такой вдумчивый и добросовестный исследователь «бурятизма», как Николай Бестужев, автор ставшего классическим очерка «Гусиное озеро» — едва ли не первого этнографического и естественнонаучного труда о Бурятии. Именно в «Гусином озере» встречаются очевидные транскприпционные и фактические ошибки в рассказе о сибирском буддизме. Основоположника буддизма Будду Шакьямуни Бестужев называет Шалелуни, бумканы (небольшие буддийские часовни) — бунханами, а одну из основных мантр тхеравады «Ом-ма-ни-пад-мэ-хум» передает как «Ом-мени-батли-хум», пренебрежительно при этом замечая, что к её повторению сводятся, в основном, все бурятские молитвы.
Дацаны Бестужев настойчиво именует кумирнями, это лишний раз говорит о том, что автор «Гусиного озера», вероятно, считал буддизм разновидностью язычества. При этом Бестужев
Даже когда бурятские бойцы готовятся к поединку, они напоминают Бестужеву персонажей «Илиады» и «Одиссеи». «Совершенно также, как гомеровские герои, они хватают с земли песок и натирают им руки, чтоб крепче удержать противника; только масло, которым умащались греки и римляне в этих случаях, заменяются потом и скользкой грязью, покрывающими тело бурятских борцов…»[10].
Буряты тоже воспринимали декабристов через призму своих мифологических представлений и стереотипов. Несмотря на то, что статус изгнанников по «делу 14 декабря» был приравнен к статусу обычных ссыльнокаторжных, коренным сибирякам они виделись привилегированными «большими людьми», или
Декабристы и сами были рады содействовать мифологизации и театрализации своего образа среди коренного населения, которое (после того, как заговорщики «сошли со сцены света») оставалось единственным невольным зрителем их «гражданского подвига».
«При переходе из Читы в Петровский завод «на одной из остановок местные буряты окружили повозку и стали расспрашивать Михаила Лунина, за что он сослан», пишет Викентий Вересаев в книге «Спутники Пушкина». «Лунин ответил:
— Знаете вы вашего тайшу (главный начальник бурят)?
— Знаем.
— А знаете ли вы, что есть тайшу, который много главнее вашего тайшу и может сделать ему угей (конец)?
— Знаем.
— Ну так вот: я хотел сделать угей его власти, за это и сослан.
По всей толпе бурят раздалось:
— О! о! о!
И с низкими поклонами, медленно пятясь назад, они удалились"[12].
Стоит ли удивляться, что буряты с уважением и даже благоговением относились к сосланным в Сибирь «Ноинам», которые волею судьбы или, вернее, кармы оказались в затруднённых обстоятельствах. Этим людям, по их мнению, даже пешком ходить было не по чину, о чём свидетельствует красноречивый эпизод, приводимый Николаем Бестужевым в «Гусином озере».
Бестужев вспоминает, как он со своим проводником, исследуя Гусиное озеро, после долгого изнурительного пути пришли в юрту бурятского кузнеца Цезаря Баклановича и тем вызвали его искреннее удивление. «Для них, для простых людей, ходить пешком вовсе не нужно, когда есть лошади; но чтоб Ноин ходил на своих ногах и так далеко, казалось для него вещью несбыточною»[13].
Николай Бестужев: «Я был несколько раз свидетелем молений бурятских»
Но по мере того, как декабристы обживались в Сибири, выходя на поселение и растворяясь среди местного немногочисленного народа, романтические мифы и легенды уступали место обычным человеческим взаимоотношениям. И вот уже Вильгельм Кюхельбекер, русский немец и сокурсник Пушкина по Лицею, интересуется метеорологическими познаниями буддистов, отмечая в своём дневнике за 1840 год: «Братские (то есть буряты — прим. ред.) уверяют, что затмение предзнаменует снег. В календаре лам есть вычисления затмений вперёд, точно как и в наших»[14].
Сын декабриста Сергея Волконского Михаил спешит в Селенгинск в гости к братьям Бестужевым не иначе как на «китайский праздник» (так называемый праздник Белого месяца или буддийский Новый год)[15]. Это говорит о том, что даже свою повседневную жизнь декабристы стали согласовывать с местными календарными и религиозными ритмами, незаметно для самих себя превратившись в таких же настоящих «диких» сибиряков, какими ещё недавно в их представлении были буряты.
Но и в вопросах жизни и смерти декабристы тоже нередко обращались к служителям ламаистского культа. Связано это было, конечно же, с дефицитом врачебной помощи, но одновременно демонстрировало высокую степень доверия, которую изгнанники стали испытывать к бурятам. Александр Шешин приводит в своей книге о Торсоне характерный эпизод, связанный с кончиной декабриста Павла Аврамова, бывшего полковника и одного из основателей Южного общества. «В ночь с 28 на 29 октября (1836 года — прим. автора) удушье, кашель и боль в боку увеличились до того, что П.В. Аврамов уже не мог лежать, и ему ставили стул с подушкой, на котором он сидел либо прямо, либо нагнувшись лицом в подушку», пишет Шешин. «Он ослабел, у него распухли ноги. Тщетно сотенный командир Разгильдяев писал к пограничному начальнику, прося прислать врача к заболевшему ссыльному. По желанию больного обратились за помощью к ламам — знатокам тибетской медицины. Ламы явились 1 ноября, и после их лечения П.В. Аврамову стало легче: он уснул, а проснувшись, говорил, что совсем здоров. Но в ночь на 3 ноября ему опять сделалось хуже. 4 ноября „боль в правом боку, удушье, кашель с кровохарканьем увеличились“ до того, что П.В. Аврамов призвал священника и причастился»[16].
К сожалению, 5 ноября 1836 года Павел Аврамов скончался[17]; его болезнь была слишком тяжелой, и помощь лам оказалась в данном случае не результативной. Но случаев успешного лечения и даже исцеления декабристская летопись содержит
Но и попытки согласовывать свою жизнь с ламским календарем, и обращение к тибетской медицине были, разумеется, знакомством только с внешней, утилитарной стороной ламаизма. Гораздо больший интерес представляют описания декабристами самого буддийского культа, самое яркое из которых оставил Николай Бестужев в одном из своих писем в Петербург.
Вообще буддийские обряды, в представлении декабристов, оказались тесно связаны с природой — вероятно, потому, что наиболее публичные из этих служений, доступные постороннему зрителю, проводились чаще всего на открытом воздухе. «Я был несколько раз свидетелем молений бурятских», пишет Николай Бестужев в 1841 году в письме своей сестре Елене Александровне. «В первый раз они молились о дожде, место было выбрано на берегу Селенги, над высоким обрывом, под навесом страшного утеса. Три ламы, то есть священники, сидели перед маленьким столиком, на котором в медных чашечках лежали зерна разного хлеба, вода, молоко, арака или вино, сыр, творог. На самом краю берега сложен был из камней жертвенник, на котором курились различные горные травы, тут же собранные. Барабан, тарелка и колокольчик у старшего ламы составляли музыку, сопровождавшую их пение. …Наконец, когда по прочтении молитв на жертвенник возложены были новые травы, все припасы, стоящие на столике в чашечках, по очереди были сброшены или выплеснуты в реку в жертву добрым духам, начал как будто нарочно накрапывать дождь, и когда гром барабана и тарелок, звон колокольчика и возвышенные голоса лам слились с рёвом ветра, блеснула молния, загремел гром и пролился обильный дождь, который разогнал всех, и молельщиков, и любопытных».
 Андрей Ефимович Мартынов, акварели «От Москвы до китайской границы»,
Андрей Ефимович Мартынов, акварели «От Москвы до китайской границы»,
вид реки Селенги, 1806 год
«В другой раз моление происходило на самой горе, против нашего дома», продолжает Бестужев. Это было годовое моление, которое называется у них амвон (здесь опять автор «Гусиного озера» допускает неточность, путая естественное возвышение с православным церковным амвоном — авт.). Молельня состоит из нескольких жердей, утверждённых между каменьями; с жерди на жердь протянуты верёвочки, увешанные различными лоскутками и лентами — приношением молельщиков. Тут же стоит род шкапика, в котором положены жертвы, такой же столик — такой же жертвенник. Ламы читают и поют, сопровождаемые своею музыкою; мужчины, и женщины особенно, в праздничных платьях, стоят кругом, и женщины беспрестанно отступают в сторону по солнцу и, складывая руки, кланяются в землю. Такие поклоны они кладут со всех четырех сторон, обходя таким образом вокруг несколько раз. После службы, после принесения жертвы добрым духам все мужчины, имеющие ружья, и ламы стреляют на воздух и троекратно кричат
Молений внутри бурятских дацанов Бестужев не описывает, но зато проявляет некоторую осведомлённость в градации буддийских храмов и сакральных мест Сибири.
«Молелен три рода», пишет он в «Гусином озере»: Бунханы (правильнее, как уже указывалось выше «Бумканы»), Обо и Дарсуки. Бунхан есть часовня деревянная, где есть изображение кумиров. Обо есть куча прутьев и кольев, при которых совершается служба, а Дарсук — несколько кольев, воткнутых в землю, между которыми протянуты верёвки с навешанными на них лоскутками бумажной или шёлковой материи: на этих лоскутках пишутся молитвы усердствующих бурят. Предполагается, что всегдашний горный ветер, развевая и заставляя трепетаться эти лоскуточки, отправляет должность чтеца этих молитв за души набожных людей, пожертвовавших этими молитвами Бунхану… По моему замечанию, Бунханы и Омбоны принадлежат духовенству, а Дарсуки находятся при каждом улусе и суть их собственность, куда один раз в год призывают лам и совершают молебствия[20]".
Предыдущие исследователи уже поправляли Николая Бестужева в его классификации ламаистских «молелен», отмечая, что буддийская община «Дарсуков» в
В принципе, весь труд Николая Бестужева под названием «Гусиное озеро» можно в
«А приедет к нам лама, привезёт тебе ума»
В истории сибирского буддизма Гусиноозерский дацан, иначе — большая кумирня, известен как центр ламаизма бурят Восточной Сибири. Как свидетельствуют буддийские энциклопедии, он считается одним из первых бурятских дацанов, появившихся в России. Одно из его наименований — Тамчинский, по селу Тамча, чей топоним в переводе с бурятского означает «место, где проживает высокий чин, титул». И в самом деле, примерно с 1809 по 1930-е годы, когда буддийские храмы были уничтожены советской властью, Гусиноозерский дацан служил резиденцией для Пандито
В то время, когда Николай Бестужев исследовал Гусиное озеро, титул Пандито
Если верить воспоминаниям и документам, Жамцуев и Бестужев коротко знали друг друга, и не раз встречались. Впрочем, то же самое можно сказать и о многих других декабристах, как это видно из исследований, характеризующих их пребывание в Сибири. «Недалеко от Селенгинска, у Гусиного озера, находился Гусиноозерский дацан — резиденция
 Селенгинский дом Бестужевых, в котором жил и умер Н. А. Бестужев.
Селенгинский дом Бестужевых, в котором жил и умер Н. А. Бестужев.
Фотография. Гос. Исторический музей
Интерес и тяготение декабристов и
Другой хороший знакомый Бестужева (и адресат его писем), петербургский чиновник Иван Корнилов, гостя в Селенгинске в 1849−50 годах, побывал по его совету у
Знакомство с главой ламаистского духовенства Бурятии, безусловно, открывало перед Николаем Бестужевым многие двери прежде закрытого и загадочного бурятского мира. Так, к примеру, именно по приглашению
«Я пришёл на свой бивуак часов в пять вечера на третий день порядочно усталый…», вспоминает Николай Бестужев. «На другой день посетил меня
И, тем не менее, несмотря на тесное знакомство, активный интерес, сочувствие, а затем и кровную связь Николая Бестужева с буддийским духовенством, его оценка ламаизма, данная в «Гусином озере», далеко не однозначна. В одном месте своей статьи он даже называет ламское сословие «язвой бурятского племени». (с. 312). Впрочем, такой взгляд легко объясним не столько реальными пороками буддийских священнослужителей (которые, конечно же, наличествовали, но какая конфессия может похвастаться безгрешным духовенством?), сколько антиклерикальными взглядами самого декабриста.
Впрочем, сам же Бестужев себя и опровергает. В том же «Гусином озере» он превосходно описывает, насколько органично ламское сословие включено в бурятское общество. Здесь нет и тени той непреодолимой иерархической отчуждённости, которая так характерна для служителей некоторых других культов. Бурятский лама — это человек из народа. Как пишет Бестужев, в Бурятии «в каждом семействе, где есть двое сыновей, один почти всегда лама… Чтобы придать сословию своему более весу, прибегли к численности, стали уверять бурят, что тот угоден Богу, кто в семействе своём будет иметь ламу, то есть богомольца»[27], — объясняет он.
В народных праздниках и увеселениях ламы принимают участие наряду и наравне с простыми бурятами. В качестве примера Бестужев описывает бурятскую борьбу, которую ему довелось видеть на уже упомянутом празднике, куда его пригласил
Кроме этого, ламаизм органично вплетён в бурятские легенды и фольклор, о чём свидетельствуют и народные песни в переводе Берга, приводимые Бестужевым в «Гусином озере». В опубликованной в этом контексте колыбельной есть такие характерные строки:
«А приедет к нам лама,
Привезёт тебе ума;
Даст он книжечку тебе,
Ты по ней учись себе…
…Будешь умник, молодец,
В храм возьмёт тебя отец,
Там ламе ты поклонись!
И Бурхану помолись!»[29]
По тем же песням из «Гусиного озера» видно, что общественное положение ламы, несмотря на его относительную близость к народу,
«…Заживёшь себе ламою,
Попадёшь в князьки…»[30]
Известно, что в бурятские «князьки» вскоре попал если не сам Николай Бестужев, то его потомки. Сын Николая Бестужева от его, как сказали бы сейчас, гражданского брака с буряткой Жигмит Сабилаевой (иногда её, впрочем, называют Сабитовой), Алексей Дмитриевич Старцев, стал богатым сибирским, а затем и китайским купцом, почётным членом Императорского Русского Географического общества. Он же собрал у себя значительную коллекцию сакральных предметов буддийского культа, а также целую библиотеку рукописей и книг по востоковедению. Одна из дочерей Бестужева от связи с Сабилаевой, Екатерина, вышла замуж за Найдана Гомбоева, родного брата Х Пандито
 Дампил Гомбоев, Х Пандито Хамбо-лама
Дампил Гомбоев, Х Пандито Хамбо-лама
(1831−1896)
 Алексей Дмитриевич Старцев
Алексей Дмитриевич Старцев
(1838−1900)
Пристальный интерес к буддизму проявлял и брат Николая Александровича Бестужева — Михаил Бестужев, который, если верить семейному преданию, написал целый трактат о ламаизме. К сожалению, этот трактат в настоящее время считается утраченным, хотя и остаются некоторые надежды его найти.
Буддизм и христианство как религиозный катарсис декабристской драмы
Возможно, этот потерянный бестужевский трактат и есть то недостающее звено, которое позволило бы нам с полным правом судить о соприкосновении и столкновении декабризма и буддизма. Для того, чтобы предположить, в чём могла выразиться эта коллизия двух духовных течений, вспомним, что из себя представлял собственно декабризм. По сути, это была русская веточка французского политического радикализма, питавшегося идеалами эпохи Просвещения и впервые гласно поставившего разум, рацио, выше интуиции и религии. При этом декабризм был пропитан романтической реакцией на французскую революцию, бонапартистским культом «героев и героического», который превосходно охарактеризовал ещё Томас Карлейль. В качестве романтических героев, этаких новых «Брутов» и «Прометеев», декабристы просто обязаны были восстать против «тиранства» и «рока», а затем пасть под их ударами, как и предписано всеми канонами романтизма. Так на самом деле и случилось: русская военная аристократия, игравшая для своей забавы в заговоры и тайные общества, очнулась от своей игры уже на виселице или в Сибири, прикованная к скале рудников, «яко античный Прометей». Здесь и началось медленное отрезвление, преображение духовного сознания через страдание и молитву. В основном, это преображение происходило в русле христианской веры, и
Теперь уже можно сказать, что декабризм развился в русле той мощной негативной традиции, которая неоднократно выражала себя в русской истории гражданскими смутами и разрушением государственности, а в реалиях сегодняшнего дня представлена сторонниками цветных революций. Болотная площадь в Москве и Майдан в Киеве тоже во многом берут своё начало от Сенатской площади в Петербурге. Эта «площадная культура» давно свойственна отечественной интеллигенции. Знаменитый вопрос из песни Александра Галича: «Сможешь выйти на площадь в тот назначенный час?» — на самом деле не такой уж сложный для русского интеллигента. Можно сказать, что «это вообще не вопрос» — мы легко выходим на площадь, принося в жертву традиционный уклад и духовные капиталы предшествующих поколений. Гораздо сложнее не «геройствовать», а жить повседневной жизнью, медленно и кропотливо созидать, обратившись от внешнего политического человека к внутреннему и сокровенному. Но именно такой обращённости к внутреннему миру и учат традиционные религии, в их числе, разумеется, и буддизм. Соприкасаясь с ламаизмом, учением, которое было старше декабризма практически на два тысячелетия, декабристы не могли этого не почувствовать. Негативная традиция, в рамках которой они действовали до своего изгнания в Сибирь, постепенно сменилась в их душах традицией созидательной и по настоящему духовной.
Строго говоря, декабристы были не только предшественниками тех, кто в 1910-х годах возвёл здание дацана в Петербурге. В не меньшей степени они проложили дорогу тем, кто в 1930-х годах варварски разрушил дацаны (а также православные церкви и другие культовые сооружения) по всей России. Но последующее возрождение церквей и дацанов в нашей стране свидетельствует о том, что созидательная традиция оказалась
В буддизме, как известно, распространён ритуал мандалы, когда кропотливый труд нескольких дней и ночей легко уничтожается самими творцами. Строитель мандалы выступает одновременно как носитель созидательного и разрушительного начала. Разрушение означает здесь развоплощение, переход достигнутой гармонии и красоты в новое качество. Такими же «творцами мандалы» представляются мне и декабристы. Они своими руками разрушили красоту и гармонию российской духовной культуры, но они же самим фактом своего сибирского искупления дают нам надежду на её возрождение в новом, ещё более совершенном качестве.
Автор: Валерий Береснев
___________________________________________________________________________________________________________________________________
[1] А.Д. Марголис. Тюрьма и ссылка в императорской России. М., Лантерна Вита, 1995 г. — 207 с. С. 57
[2] Мемуары декабристов. Южное общество. М.,
[3] Мемуары декабристов. Южное общество. М.,
[4] Мемуары декабристов. Южное общество. М.,
[5] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 264
[6] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 311
[7] Н.И. Лорер Записки декабриста. М., 1931 с.124
[8] Полина Анненкова. Воспоминания. М.: Захаров, 2003. -384 с — с. 217.
[9] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С.270
[10] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 307
[11] А.Б. Шешин. Декабрист К.П. Торсон. — Улан-Удэ: Бурят. Кн.
[12] Вересаев В.В. Спутники Пушкина. В 2-х томах. Том 1. М.: Советский спорт, 1993 — 416 с. С. 240
[13] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда С. 276
[14] Дельвиг А.А., Кюхельбекер В.К. Избранное, М.: Правда, 1987 — 640 с. С. 538
[15] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда С. 593
[16] А.Б. Шешин. Декабрист К.П. Торсон. — Улан-Удэ: Бурят. Кн.
[17] Кубалов Б. Декабристы в Восточной Сибири, с.89−90.
[18] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда. С. 265
[19] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 488
[20] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 268−269
[21] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 254
[22] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 262
[23] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 652
[24] См. сборник «В потомках ваше племя оживет…» Иркутск, 1986, с.115−116
[25] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 306
[26] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 307
[27] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 312
[28] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 308
[29] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 278
[30] Н.А. Бестужев. Сочинения и письма. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003. — 752 с. (Серия «Полярная звезда»). С. 279
* Для возврата в текст нажмите на выбранный номер сноски